
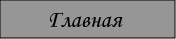
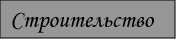

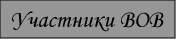

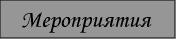
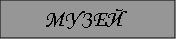
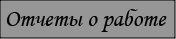
(В дальнейшем курсивом приводятся комментарии дочери, Т.Ю. Кобзаревой)
Краткая его биография - мозаика из автобиографических фрагментов его дневников и воспоминаний его жены Берты Яковлевны Маркович.
Дневниковые эти записи интересны не только с точки зрения биографической, но и как яркие зарисовки свидетелей и участников реальных событий, которыми так обильна история 20-го века.
О происхождении.
Мой отец из семьи военного. Его отец был офицером, выходя в отставку, получил звание генерала. Семья его жила вблизи Харькова, очевидно, имела небольшой надел. Детей у него было достаточно много: Борис, Гермоген, Олимпиада, Софья. <…>
Отец получил образование в корпусе, любил математику и физику. С моей матерью познакомился в Новохоперске, где его часть была расквартирована. <…>
Ему было предложено место в Москве, куда он, с женой и ребенком (мной) и переехал. Видимо, жизнь в Москве его не устраивала, должность была маленькая, и он продолжал поиски лучше оплачиваемой работы.<…>
В Костроме жизнь была сносной, мы имели небольшую квартиру, я ее хорошо помню во всех деталях. В ней (в Костроме это была уже вторая и последняя квартира) я спал одно время с родителями, а затем с бабушкой, матерью моей матери. Она меня вырастила, научила молиться Богу. В Костроме мы встретили праздник 300-тлетия дома Романовых. Празднества в Костроме были грандиозны. Отец получил в награду именной подарок - золотые часы знаменитой в России фирмы Буре. А следом отец получил повышение. Первую мировую войну в 1914 г. мы уже встретили в Харькове.
Отец не поладил с харьковским губернатором и был изгнан в г. Купянск, где ему дали должность исправника. Ему был подвластен весь Купянский уезд. Жизнь в Купянске уже начала обустраиваться, но разразилась революция....
Теперь о моей матери. Мой дед по матери - Николай Потулов - тоже имел много детей. <…> Все его дети получили по смерти отца небольшие наделы и пользовались ими. Один дядя матери был земским врачом, другой - акцизным чиновником. Любовь Николаевна получила надел тоже. <…> Бабушка вышла замуж за человека хорошего происхождения, Григория Аристова. Говорили, что Аристовы - это изменившие фамилию Эристовы - чем-то опозорившиеся кавказские князья.
Григорий Аристов был бездельник, картежник. Женившись, стал срочно проигрывать наследство моей бабушки. Ее земля была заложена и перезаложена. И бабушка от него ушла после рождения третьей дочки. Бабушка была святой женщиной. Себя она целиком отдала воспитанию двух оставшихся в живых дочерей - Надежды и Аллы - моей матери. Она вела нищенскую жизнь, добывая средства к жизни, работая гувернанткой, давая уроки музыки. Она была прекрасно воспитанным, хорошо образованным человеком. Она получила образование в С.-Петербурге, в “институте благородных девиц в Смольном”.<…>
Бегство.
Разгар гражданской войны. Мое семейство в самом театре пекла. Но это - последний ее спазм. Белая армия проиграла. Ее погубили глупость генерала Мамонтова, вообразившего, что можно достичь победы путем взятия Москвы глубоким рейдом в тыл Красных. И вот теперь фронт разрушен, армия отступила. Мы в Донбасе, в самом его центре, в городке Дмитриевске, в непосредственном соседстве со знаменитой Юзовкой, ныне ставшей столицей Донбаса. Мы имеем квартиру на втором этаже. Большой кабинет отца служит приемной его “офиса”. Рядом - комната его сослуживцев - двух его помощников офицеров Донникова и Павловского. Спальня родителей, столовая, моя комната, комната моей бабушки Любови Николаевны Аристовой, еще комната - склад обломков нашего дореволюционного быта, кухня - тепло, уютно. Я хожу в гимназию, классная наставница относится ко мне очень хорошо, я хожу к ней домой, получаю у нее недополученные мной тома “Детской энциклопедии” для чтения. <…>
Бабушка по вечерам читала перед сном. На предыдущем месте жительства она завела знакомство и приносила от знакомых томики сочинений Ожешко, польской писательницы.
Но наступило время, когда фронт дошел и до нас. У учительницы появились солдаты отступающей армии, чтобы получить приют. И мы должны были уезжать. Куда - неизвестно. Товарный вагон загружается вещами, запакованными частично в ящики. Для людей устраиваются лежаки из досок. В вагоне, посредине, стоит чугунная черная печь, в ней горят угли. В вагоне тепло. Но с нами нет ни бабушки, ни тети Нади. Они решили не ехать с нами. <…>
Мы едем по ветке, сложным образом хотим перебраться на основную линию железной дороги, которая приведет нас в Ростов на Дону. Но, проехав недолго, отъехав всего километров 30, мы остановились: путь забит поездами. Паровоз отцепили и угнали. Отец с Донниковым пошли искать выход. Через пару часов появляется на розвальнях с парой лошадей Донников, в розвальнях больной солдат. Донников забирает мою мать, меня и пару чемоданов по выбору матери. Я забираю свою маленькую корзиночку-сундучок, в которой пенал с карандашами и мелочью - перьями и т.п., книжка о растениях - приложение к журналу (кажется, “Вестник знания”), коробочка с любимыми конфетами, изготовлявшимися матерью из молока и сахара.
Мы едем по неизвестным путям, надеясь пересесть на поезд. Но... впереди виднеется железнодорожная станция, на которой полыхает пламя. Мы сворачиваем с дороги, скатываемся по откосу вниз, к деревне вдалеке. В деревне мать жалуется на холод, на нервный озноб. Ее поят жутким самогоном. Нам дают проводника, который по снежной целине выводит нас на дорогу, идущую параллельно железнодорожной линии на Таганрог. Лунная ночь, идет снежок, мы хотим есть и спать...
Проезжаем через одну дорогу - ночлега нет, все жильцы больны сыпняком. Другая - то же самое. Наконец попадаем в деревню, на выезде из которой находим ночлег... А с утра опять в путь.
В Таганроге восстание, в город не заезжаем, едем параллельно железной дороге в Ростов, по дороге находим ночлег. Наконец приезжаем в Ростов. Питаемся, проводим день и ночь, а рано утром грузим свои чемоданы на телегу и тут в последний момент появляется отец. Он, оказывается, нашел вторые сани, заехал к нашему вагону, погрузил на сани пару сундуков и поехал другой дорогой, минуя Таганрог, прямо в Ростов. По дороге чуть не был захвачен красными. Он уже выезжал из деревни, а красные уже входили, “наступая на пятки”. А возница был ненадежен, норовил избавиться от опасного пассажира...
Вместе с нами из Ростова уехало много народа - сослуживцев отца и попутчиков. Мы ехали с отступающей белой армией, таявшей по пути. Кругом валялись винтовки, книжки, мешки с зерном. Помню, как из разорвавшихся мешков высыпалось пшено, образовавшее изрядную кучу. Мы набрали из нее сколько могли, оно нас очень выручало в дальнейшей дороге. В поезд мы не попали, ехали на лошадях до Армавира, где сделали остановку, чтобы разобраться в обстановке и принять решение.
Наконец решение было принято: ехать в Туапсе! Мы даже погрузились в вагон. Но вдруг получили информацию: в Туапсе нельзя, там сменилась власть. Тогда надо ехать дальше. Отец принял решение - ехать в Кисловодск. <…>
Жизнь в Кисловодске. Смерть отца и учеба в гимназии.
Выехали мы из Дмитриевска (Макеевки) зимой, в мятеж, а приехали в Кисловодск весной, в тепло и солнце.
Путь из Ростова был очень интересен. В Дмитриевске я обзавелся прекрасной австрийской винтовкой (я ее довез до Кисловодска!). Был у меня в корзиночке еще замечательный небольшой браунинг. И, конечно, куча ружейных патронов, с помощью пороха из которых я устраивал фейерверки на остановках.
Винтовку я в Кисловодске разобрал на детали и спрятал в хозяйском сарае, где ее нашел сын хозяйки, а патроны продолжал использовать как источник пороха для самодельного пистолета - всеобщее увлечение всех мальчишек в Кисловодске. Дерево, ружейная гильза, резинка для спуска курка, деревянная конструкция рукоятки и ложа, и пистолет готов. К нему пистоны добывались в неограниченном количестве. Стрелял пистолет очень громко, что доставляло удовольствие. <…>
<…> отец нашел новое помещение. На этот раз в центре города, на Николаевской улице … и слег в сыпняке.<…> Лечила отца врач Манджес, добрая женщина. С трудом она доставала лекарства для поддержания работы сердца. Но болезнь была тяжела, и отец не выдержал. Он умер. Это было 23-го марта 1921-го года; в ту ночь невыносимо выл сидевший на цепи сторожевой пес в нашем дворе на Николаевской улице.
Кладбище было тесным, могилы были расположены близко одна к другой. Крест был поставлен простой деревянный, Могила была окантована камнями, залитыми цементом.
Итак, умер отец. Добрейший и мягчайший человек <…> Воспоминания об этих днях какие-то стертые. Помню, была жара. Спешили с похоронами. Больного отца я видел раз или два. Помню его в гробу. Помню, как я увлекся религией после его смерти. <…>
Отец умер. Много лет спустя я пытался найти его могилу на кладбище в Кисловодске. Ее нет. Там, где она была, похоронены другие. Нет и Церкви, где служили панихиду над его гробом. <…>
Долго мучилась мать <…>. А я ходил в Церковь. И в библиотеку. А когда наступила зима, изучал звездное небо, читал книги по астрономии.
Я преклонялся перед величием мироздания. Я ощущал Бога.
А вскоре мы узнали, что умерла в Дмитриевске моя бабушка. Умерла страшной смертью, от холеры, свирепствовавшей тогда на юге России. Холеру мы застали даже в 1926 году, переехав из Кисловодска в Харьков.
Как мы жили в Кисловодске? Летом готовили пищу на “мангалке” - простая железная треногая печь, в которой горели угли (древесные). Зимой отоплялись и готовили пищу на железной “буржуйке” с двумя конфорками. Ели кукурузную кашу - мамалыгу с бараньим курдючным жиром, изредка покупали на базаре мясо, и мать делала котлеты. Хлеба не было. Изредка кусочек давали мне как школьнику. Нужно было выстоять большую очередь.
Я гулял в пустынном парке. Любил сидеть над “стеклянной струей”, любил валяться на траве на “красных камнях “, читал там “Элементы высшей математики” Лоренца. Читал страшно много и по философии и по физике. Увлекался историческими романами Данилевского. Научился игре в шахматы (вместо шахматных фигур перекладывали кружочки из картона с условными обозначениями фигур) <…>
Приближался срок окончания школы. Я жил вдвоем с матерью в Кисловодске. Голодать мы не голодали, но нужда чувствовалась сильно. Меня это не очень беспокоило, но хотелось выйти на самостоятельную дорогу, поскорее пройти этап, конец которого уже был ясно виден. И я последовал совету Пьера Ребиндера - окончить гимназию, пропустив последний класс. <…>
Итак, я подал заявление в школьный совет. <…> Экзамены я сдал неплохо. Некоторые преподаватели отнеслись снисходительно. А математик - председатель школьного совета свирепствовал, но был побежден мною. Семиклассники меня поздравляли, радовались моей победе. Они не прошли всей программы, а я отвечал по всей программе. <…>
Наконец все было кончено. Свидетельство об окончании “Единой трудовой школы” получено<…> Мы выехали их Кисловодска в Харьков.
В Харькове. Университет.
<…> я был счастлив и когда готовился поступать в университет, сидя в Харьковской публичной библиотеке, был счастлив, когда ходил экзаменоваться. <…>
Итак, я был принят в Университет. В то время идея Университета всячески преследова-лась. Традиции его тщательно выжигались. Университетская улица была переименована, университет был переделан в “Институт народного образования” с двумя факультетами - “социального воспитания” и “профессионального образования”. Соцвос представлял собой нечто жалкое. Это было новое образование, училище, готовившее каких-то воспитателей для детских домов. “Профобр” являлся старым университетом. Однако ему была дана целевая установка - готовить преподавателей для профшкол, пришедших на Украине на смену “единой трудовой школе”. У меня были самые смутные представления о системе школьного образования на Украине в те годы, и я меньше всего думал о том, что я буду делать по окончании “ИПО”. Я учился, слушал лекции, и этого было довольно. Я был счастлив вполне. Диета из пшеничной каши меня нисколько не огорчала. Пшеничную кашу я полюбил на всю свою жизнь. <…>
Широкой студенческой вольницы уже не было в то время. Помню первую и последнюю студенческую сходку на первом семестре, возникшую стихийно. Не прошло и получаса, как явился представитель “Студкома” и объяснил, что такие сходки нетерпимы, что о всех возникающих вопросах нужно прежде всего обращаться в Студком, и уже там решат, нужно ли устраивать общее собрание и какие вопросы на нем обсуждать. Он очень убедительно нам пригрозил, этот избранник студенчества, которого мы, первокурсники, видели впервые. Больше сходок мы не устраивали.
<…> принимал деятельное участие в организованном нами сразу же, как только начались занятия, математическом кружке. Мы привели в действие старую студенческую библиотеку старого математического кружка, до того законсервированную. Физмат Харьковского университета оживал при нашем участии. Иногда после занятий утром мы шли по букинистическим лавкам покупать книги на членские взносы. <…> Библиотека пополнялась, кружок собирался и слушал доклады, и я с Яшей Бланком испытывал гордость. Это была настоящая общественная работа, дававшая мне удовлетворение. Позже кружок физиков организовывал я сам, уже самостоятельно. Этот кружок, которым руководил Желиковский, работал также хорошо. Первый доклад на нем был сделан мной - об измерениях в физике. Другой большой доклад я делал о теории относительности. Помню доклады Дорогого о рентгеновских лучах (он говорил “рентенгеновские лучи”) и Папкова о радиоактивности. Это были, вероятно, очень наивные доклады, наши первые педагогические опыты. С каким удовольствием я писал и развешивал объявления об этих докладах, как был счастлив, когда собирались большие аудитории!
Позже был организован кружок по геометрии, которым руководил Синцов. Я готовил доклад о проективном мероопределении, читая Кэйли в подлиннике <…>
Жизнь била ключом, счастливая студенческая жизнь. Все было запросто, без формальностей. Инициатива не связывалась, не ставилась в заранее установленные рамки. Сегодня Сенцов устраивал вечером упражнения, не предусмотренные никакими расписаниями, на которых задачи решались при консультации студентов старших курсов (я был в числе этих консультантов), а завтра мы устраивали опыты по радио при помощи огромной катушки Румкорфа - грандиозной батареи лейденских банок. А послезавтра я возился с камерой Вилионя или занимался точной калибровкой разновеса или магазина сопротивлений. То я помогал Д.С. Штейнбергу производить его исследования фотоэлектрического эффекта в молибдените, то бегал на упражнения по механике, которые так забавно вел Сырокамский. Теорию вероятностей, некоторые главы механики, теорию относительности нам читал С.Н. Бернштейн. Электродинамику я слушал со старшим курсом, где был Дорогой; ее читал Желиковский. Термодинамику читал Слуцкин. Гончаров читал главы математики - дифференциальное исчисление и приближенные вычисления. Марчевский - высшую алгебру, интегральные уравнения. Синцов - дифференциальные уравнения и аналитическую геометрию. К Русьяну ходили на дом слушать лекции по уравнениям в частных производных (я не ходил, для меня этот курс был необязателен как для физика). <…>
Нас воспитывали в духе диалектического материализма. На экзамене я спорил с экзаменатором, доказывая никчемность примеров Энгельса из области математики и химии по вопросу перехода количества в качество и единства противоположностей. И получил зачет.<…>
Однако надо было жить. Начинаются заботы о хлебе насущном… С первого же семестра начал давать частные уроки в качестве репетитора. Это было тягостным занятием для меня, отрывавшим меня от университета. Этого было мало. Мне пришлось искать постоянной работы <…> Желиковский устроил меня на должность ассистента в Фармацевтический техникум <…> затем я начал преподавать на рабфаках. <…> я носился почти бе-гом из одного института в другой, читал лекции, проводил упражнения. Мне было очень трудно, временами меня одолевало отчаяние <…>
Д.А.Рожанский. Ленинград.
Прошло три года. Наступила осень 1925-го года. <…> Осенью приехал Рожанский <…>. Я был рекомендован ему Желиковским в качестве помощника. Начались мои ночные бдения над полусамодельным приемником в комнате нашего радиокружка <…> Уезжая, он предложил мне переехать в Ленинград работать у него во вновь организуемой лаборатории. Я с радостью согласился.
В день, когда мне исполнилось 20 лет, пришло письмо от Рожанского с окончательным приглашение (отец был зачислен на работу к профессору Д.А. Рожанскому в отдел коротких волн Ленинградской физико-технической лаборатории ВСНХ (ЛФТЛ) в должности научного сотрудника первого разряда). Я был вне себя от счастья. Но мне предстояло закончить ИПО ускоренным темпом - вместо года за два месяца. <…>
6-го февраля 1926 года я с матерью приехал в Ленинград. Кончена учеба. Нет больше преподавательской работы. Впереди – научная работа в новой лаборатории, в институте (Ленинградском политехническом институте) – средоточии крупнейших физиков. Нет слов, чтобы передать то ощущение счастья, которое владело мной в те дни, навсегда оставшиеся в моей памяти. Прямой, как стрела, Невский, Сосновка, занесенная снегом, с траншеями в глубоком снегу вдоль тротуаров. Маленькие деревянные домики вдоль проспекта, яркое солнце, заливающее белоснежные снега… Тишина вокруг, тишина в душе. На пороге новой жизни, с ожиданием большой счастливой работы.<…>
В 1930 г. отец встретился с Бертой Яковлевной Маркович, студенткой физико-математического ф-та Московского университета, приехавшей в институт на практику.
По воспоминаниям мамы, не успела она вернуться с практики, как Ю.Б. примчался в Москву знакомиться с ее семьей и делать ей предложение. Вскоре она стала его женой. Б.Я. была из большой еврейской семьи, у ее отца Якова Наумовича Марковича было 14 братьев и одна сестра, у него же самого было четверо детей. Родители Б.Я. с трудом смирились с мыслью, что Бетти, еще совсем девочка и такая способная, выходит замуж, что им надо с ней расстаться, что ей придется переводиться из Московского ун-та в Ленинградский Политехнический.
Из воспоминаний жены - Б.Я. Маркович.
В конце апреля 30-го года группа наших студентов поехала на практику в Ленинград. Нас с Леной Секерской послали в Радиофизический институт в Сосновке - так назывался большой район, где было несколько естественно-научных институтов. Мы как физики попали в отдел Димитрия Аполлинариевича Рожанского. Я считаю, что нам очень повезло. В это время в Ленинграде была группа учеников Мандельштама. Мы были знакомы, и они старались нам помочь при устройстве нас на практику. Мы с Леной не попали, хотя и хотели этого, к Юрию Борисовичу Кобзареву - 24-летнему ученику Рожанского. Он нас не взял, и Рожанский определил маня - к Пружанскому, занимавшемуся коротковолновыми передатчиками, а Лену - к Гуревичу. <…>
В конце 20-ых годов Димитрий Аполлинариевич Рожанский ездил в Германию и привез оттуда кварцевые пластинки, чтобы делать эксперименты с радиосхемами. Этим занялся Юра (Юрий Борисович Кобзарев - мой будущий муж). Он провел опыты с радиоволнами, используя эти пластинки, в результате получались устойчивые колебания, позже схемы с кварцевыми пластинками стали применять в электронных часах. Стало возможным сделать часы с очень равномерным ходом - показывающие очень точное время. В результате этих опытов у него возникла теория радиоколебаний с этими пластинами, положившая в России начало исследований радиоволн и ставшая одной из главных составляющих общей теории радиоколебаний.
Кроме удивительной обстановки в сфере научной, в Политехническом институте поражало отсутствие идеологической узости, в это время уже господствовавшей в Москве. На рабочих семинарах Абрама Федоровича возникали постоянно философские дискуссии двух крупных ленинградских ученых: профессора Мицкевича - сторонника диалектического материализма, и профессора Френкеля - физика-теоретика, отстаивавшего европейские взгляды того времени. Эти споры протекали бурно Френкель - еврей и человек необычайно темпераментный, спорил с пеной у рта, кричал, жестикулировал, а его оппонент, твердо уверенный в своей правоте, человек уравновешенный, доказывал свою точку зрения очень спокойно. Доказать им друг другу никогда ничего не удавалось, и спорили они почти всегда, как только в ходе обсуждения возникали философские аспекты.
Приехав в Ленинград и попав в эту необычную для меня обстановку, я почувствовала удивительную свободу. Со всеми, даже и со студентами, можно было говорить обо всем на свете, даже о политике, ничего не опасаясь. Я перестала чувствовать себя социальным изгоем. Это было просто поразительно, и так было, пока я (переведясь той же осенью из Москвы в Политехнический) не кончила институт. <…>
Первый раз с Юрой - моим будущим мужем - мы пересеклись очень забавно. Мы поехали на его лекцию в ЦРЛ - Центральную радиолабораторию. После лекции мы ехали домой, и вдруг, в трамвай, уже отъехавший далеко от остановки и сильно разогнавшийся, на полном ходу вскакивает Юра с двумя толстенными книгами под мышками (в то время задние площадки трамваев были совершенно открытыми, только крыша). Увидев нас, он очень обрадовался. Был чудесный теплый майский вечер, он позвал меня и Лену поехать в ресторан поужинать.
Отправились в “Европейскую гостиницу” - один их лучших ресторанов в городе. Он заказал ужин. Нам, ужасно проголодавшимся, этот ужин показался просто роскошным.
После ужина мы все вместе вернулись в Лесное, где и мы и он жили.
С этого вечера он стал за мной ухаживать. Было несколько институтских экскурсий (пароходная экскурсия в Кронштадт, поездка в Царское село), в ходе которых мы очень подружились. Потом мы в более тесной компании поехали в Токсово - ленинградский пригород с большим озером. В это время Юра за мной уже бурно ухаживал. В Токсове произошла история, которую мне хочется рассказать.
Мы решили искупаться в озере. Женщины - я и уже взрослая сотрудница института - Наталия Антоновна (ставшая потом моим близким другом на всю жизнь), отошли в сторону от мужской половины группы. Стали купаться и вдруг услышали страшный шум с той стороны, где купались мужчины. Мы быстро оделись и побежали туда. Оказалось, что они откачивают Юру, который чуть не утонул. Потом выяснилось, что он - единственный из всех - совсем не умел плавать, но постеснялся об этом сказать. Озеро было с крутым обрывом в воду, он оступился и ушел в глубину. Владимир Иосифович Бунимович, тоже молодой сотрудник Рожанского, заметил, что Юра исчез. Прекрасно умея плавать и нырять, он начал искать Юру под водой, быстро нашел и, схватив за волосы, вытащил на берег. Эта история меня потрясла. Поняв, что могла его потерять, я осознала, что он мне очень дорог.
Так как он очень плохо себя чувствовал, мы сразу же вернулись домой, хотя он всячески старался ничего не показать.
Вода была ледяная. Юра после этого тяжело заболел. Мы с Наталией Антоновной на следующий день пришли в нему домой его проведать. Нас к нему не пустили, сказали, что он лежит с высокой температурой.
Когда он выздоровел, мы стали постоянно встречаться - очень много гуляли вечерами после работы.
Как-то раз он решил прокатить меня на острова (где был чудесный парк и Елагинский дворец) на лихаче. Было воскресенье. Мы отправились в город, и там он нашел “лихача на дутиках” - нарядную прогулочную, с хорошей лошадью, пролетку на надувных шинах. Ехать на такой пролетке было замечательно. Мостовые в то время в Ленинграде были торцовые, на обычной пролетке трясло, даже здорово трясло, а у такой - был мягкий ход и специфический - приглушенный удар копыт - глухая дробь - о деревянную мостовую. Мы доехали, отпустили извозчика и решили погулять в парке. Дошли до какой-то речки, на которой был плавучий ресторан. Попили там кофе. Рядом оказалась лодочная пристань: взяв напрокат лодку, мы, сменяясь на веслах (я тоже умела и любила грести), пару часов катались по реке. Погода была чудесная: жаркий солнечный день, тишина. Покатавшись, решили еще погулять и отправились “на стрелку” - в самый конец острова, выходивший в Финский залив. Перед нами открылись просторы моря - я до этого на море никогда не была - до сих пор помню необычайные ощущения этого огромного простора. <…>
Оставалось совсем немного времени до моего отъезда. Юра хотел как можно скорее на мне жениться, чтобы я переехала жить к нему в Ленинград.
Я вернулась в Москву, уже решив переехать жить в Ленинград. Родители были в ужасе. Но я держалась твердо. Через очень короткое время в Москве появился Юра. Он всей семье очень понравился, но все-таки родители пытались уговорить его отложить нашу женитьбу на год - до моего окончания университета. Но никакие уговоры на нас не действовали. После этого он уехал в Одессу на конференцию, оттуда - опять вернулся в Москву и гостил у нас на даче в Кашире. Мои сестры были еще совсем девочки (Ное было 13 лет, Рае - 11), и он с ними очень возился, они обе полюбили его на всю жизнь. Все было просто и хорошо.
4-ого сентября он уже встречал меня на Московском вокзале, и на огромной машине (тогда машин вообще практически не было) повез меня прямо с вокзала регистрировать наш брак, а затем - домой в Лесное.
Началась моя ленинградская жизнь - жизнь и очень счастливая, и очень трудная.
Осень 1930 г… События следовали одно за другим очень быстро. Расстрел «отравителей» без суда… Общие собрания в Физтехе и Политехническом с голосованием резолюции с одобрением расстрела. Я голосую «против», за что меня исключают из профсоюза, на членство в котором я имел право, как записано в уставе, «независимо от политических убеждений». Более того, меня хотели уволить с работы. Отстоял А.Ф.Иоффе, но от преподавания в ЛПИ меня все же отстранили. <…>
(По свидетельству сотрудника ЛФТИ, будущего академика А.Н.Алиханяна, на заседании, где это обсуждалось, присутствовал Н.И.Бухарин, обследовавший в это время институт. Он сказал, что нельзя молодого, хорошо характеризуемого директором сотрудника увольнять из-за того, что он не так проголосовал. Журнал «Радиотехника», 1998, №10)
Из воспоминаний жены - Б.Я. Маркович.
Первый год жизни в Ленинграде я училась в Политехническом. В этот год началась открытая идеологическая борьба с “врагами народа”, вылившаяся в массе арестов по всей стране. Эта беда не миновала и Ленинграда. Шла ликвидация НЭПа. В деревне началась коллективизация. В стране возникли экономические трудности, которые жаждали списать на действия “вредителей”. Одновременно активизировалась борьба с “врагами” во всех социальных слоях. В Политехническом это ознаменовалось арестом Димитрия Аполлинариевича Рожанского - кристально чистого и честного человека, никогда не боявшегося высказывать свое мнение. Этому предшествовал в Ленинграде расстрел без суда “вредителей”: на одном из заводов были массовые отравления, и 40 человек были расстреляны по обвинению во вредительстве без суда и следствия. Во всех учреждениях проводились собрания, на которых - обычно - единогласно на общем голосовании выражали свое одобрение. На таком собрании в Физико-техническом институте выступил Рожанский. Он сказал, что он вообще противник расстрелов, а особенно - без суда и следствия. Когда общее собрание - чисто формально - спросили, кто еще против, Юра - единственный - поднял руку.
Сразу же после этого голосования все институты Лесного, включая Политехнический, выпустили стенгазеты с ужасными карикатурами на Рожанского (изображали, например, его в виде свиньи), вспомнили, что Рожанский - потомок знаменитых русских купцов Морозовых (его мать была Морозова). Через несколько дней его арестовали. Юру тоже резко критиковали, и мы ждали его ареста. Целый вечер после ареста Рожанского, придя домой, мы сжигали документы, которые могли скомпрометировать Юру. Его отец был выпускник Кадетского корпуса, офицер - ко времени революции - полковник. Воевал в Белой Армии. Он умер в 20 году в Кисловодске от сыпного тифа. Все это Юра - с 15 лет без отца - и его мать всегда скрывали. Это удавалось, так как жили они всегда очень бедно. Пока он учился, еле удавалось - Юре - частными уроками, а его матери - продажей своих вещей и шитьем - сводить концы с концами. На их частную жизнь никто не обращал внимания. Но в момент опасности ареста всех охватил ужас. Сжигали все оставшиеся от дореволюционных времен бумаги. Сожгли даже крышечку от часов с памятной надписью.
Мы собрали Юре узелок с необходимыми на случай ареста вещами. Много ночей мы провели в состоянии ужасной тревоги. Ждали прихода “гепеушников”. Юру исключили из профсоюза, запретили преподавание в Политехническом. Его не успели еще уволить с основной работы - из Радиофизического института, когда на закрытое партийное собрание в институт приехал Бухарин. Когда ему рассказали о Юрином преступлении, он сказал: ”Нельзя увольнять с работы молодого талантливого ученого за то, что он не так проголосовал”. Юре об этом рассказал Брауде - член партии, тоже работавший в лаборатории у Рожанского. Мы успокоились, но страшно переживали за Рожанского, ходили к его жене узнавать, что с ним. Она рассказывала, что с ним обращаются ужасно жестоко, сажают в карцер, пытают, требуя признания во вредительстве.
Всех его сотрудников вызывали и требовали подтвердить версию о его вредительстве. Никто этого не сделал. Брауде за это исключили из членов партии, чему он, кстати, тогда был очень рад (сказал он об этом нам гораздо позже).
Наступили трудные времена… Д.А. был заключен в тюрьму. От всех его учеников ОГПУ требовало показаний против него. Должно быть, все отказались клеветать на такого человека с кристально чистой душой. И как ни уверяли следователи, что скоро мы поймем свои ошибки, – ничего у них не вышло.
Через несколько месяцев Д.А. был освобожден, подозрения с него были сняты и он снова принялся за работу. <…>
(Он вел интереснейшие исследования и в 1933г. был избран чл.-кор. АН СССР)
Из воспоминаний жены
Ко времени ареста ему еще не было и пятидесяти лет. Вышел он из тюрьмы в очень плохом виде, с серьезным заболеванием сердца. Но продолжал очень много и интенсивно работать. В 36 году он, придя домой с работы, упал и мгновенно умер от сердечного приступа. Преждевременная смерть его явно была последствием страшного его ареста. <…>
Окончание института, работа, рождение сына.
В 31 году я закончила Политехнический. Меня направили работать в Радиофизический институт. Но в результате истории с Юриным голосованием против расстрела без суда меня отдел кадров на работу брать не захотел. Мы с Юрой пошли к директору института, прямо к нему домой - отношения в Лесном между всеми сотрудниками были очень простые - узнать, в чем дело. Он нам сказал, что ничего сделать не может.
То, что меня не взяли на работу в этот институт, предопределило во многом ход моей жизни.
Юра в то время работал по совместительству консультантом в ЦРЛ (центральной радио-лаборатории), в отделе измерительной аппаратуры. Он попросил за меня, и меня взяли в этот отдел. Сначала меня направили в группу, которую возглавлял некий Фукс. Я начала у него работать, но потом его почему-то уволили, а группу отдали под мое начало. Группа была маленькая - три лаборанта и я. Мы занимались разработкой схем для развертки луча на экране катодных осциллографов. Тема была новой, результаты были важны для развертки на экране изображения (в частности, на экране телевизионном). Развертка производилась релаксационным генератором. Мне удалось разработать катодную лампу для этих схем - тиратрон, наполненный инертным газом. Баллоны ламп выдувались стеклодувом “вручную”, целый год был занят экспериментами с полученными схемами, давшими интересные и совершенно новые в этой области результаты.
В этот год я ждала ребенка. ЦРЛ находилась страшно по тем временам далеко от нашего дома: полтора часа езды в один конец на трамвае с двумя пересадками. В это время дисциплина насаждалась жестокими средствами: за одно опоздание объявлялся выговор, а за три - отдавали под суд. Работа начиналась полдевятого, приезжать вовремя мне становилось все труднее. Время было голодное, но институт был промышленный, и нас кормили на работе обедом, и даже давали иногда какие-то продуктовые пайки домой.
Осенью 32 года у меня родился сын - Игорь. На роды давался декретный отпуск - 6 недель до родов и 6 - после. В роддомах была страшная разруха, Игорька я привезла домой больным: у него был кожный сепсис. Условия для грудного ребенка у нас дома были совершенно неподходящие: не было ни водопровода, ни канализации, ни центрального отопления. Топили дровяную печь ( дрова, сплавляемые по Неве, были всегда сырые), воду я носила из колодца около выхода из кухни, кухня не отапливалась и была такой холодной, что замерзала вода. Игорьку было необходимо постоянное тепло, и Юра для обогревания протянул в нашей крошечной комнатке под потолком нихромовую проволоку, которая всегда была включена в сеть, и это нас спасало.
Игорька удалось вылечить в одну неделю, следуя советам замечательного детского врача Георгиевского.
(В 1932 году родился первый сын – Игорь, в 38-ом – Геннадий, а сразу же после войны, в 46-ом, родилась я. Во время войны институт отца, а с ним и вся наша семья – мама с моими старшими братьями и бабушкой – были эвакуированы из Ленинграда в Казань. После войны в связи с работой отца семья переехала в Москву.
Отец работал в двух НИИ, организовал, когда это стало нужно для подготовки специалистов по радиолокации, кафедру радиолокации в МЭИ, хотя ему, как видно по дневниковым записям, и не очень хотелось преподавать. Он руководствовался чувством долга, делал то, чего требовала ситуация.)
1986 год.
Минуло почти полвека с того дня, когда по вызову академика Абрама Федоровича Иоффе, директора Ленинградского физико-технического института, я пришел в ЛФТИ, чтобы приступить к работе в только что организованной лаборатории профессора Дмитрия Аполлинарьевича Рожанского.
- Вы оформлены на работу в лабораторию Дмитрия Аполлинарьевича и можете приступать сейчас же, - сказал Абрам Федорович. – Лаборатория решает задачу обнаружения самолетов с помощью радиоволн. <…>
<…> В то время мы еще не понимали, сколь велика будет роль радиолокации во время приближавшейся Великой отечественной войны и в последующие годы, не могли представить себе, каких масштабов достигнет эта, только что народившаяся техника, какого совершенства она достигнет (из книги «Стерегущие небо», изд. ДОСААФ СССР. М., 1986 г.).
<…> 3 января 1934 г. в Ленинграде на небольшой специально построенной установке были зарегистрированы отраженные от самолета радиоволны. С этого дня, который можно считать днем рождения советской радиолокации, начались интенсивные исследования. <…>
С помощью радиолокации мы можем заглянуть в глубь Земли и космоса. Облучая длительное время далекую планету сигналами, посылаемыми со стометровых зеркал-антенн, и анализируя отраженные сигналы, можно получить информацию об особенностях строения поверхности планеты. Разместив радиолокатор на космическом аппарате, можно изучать структуру поверхности планет, в том числе и Земли, без радиолокаторов немыслима работа современных аэродромов, с их помощью осуществляется навигация морских судов и космических кораблей. <…>
(Ю.Б. Кобзарев. Первые шаги советской радиолокации. «Природа», 1985, №12)
Заключение.
К приведенным здесь воспоминаниям родителей мне хочется добавить несколько особенностей жизни отца, важных для меня и моих детей
Он очень много работал, после войны - на нескольких работах: семья была большая, жить было непросто. Но он никогда ничего не делал в жизни для карьеры. После войны, когда он уже был лауреатом Сталинской премии за работы по радиолокации, когда ему было поручено организовать в МЭИ кафедру для подготовки специалистов в этой области и т.д., он еще не имел никакой ученой степени и не делал ничего, чтобы она у него появилась. Степень доктора наук он получил «по совокупности работ», не прилагая для этого никаких усилий.
Он вел огромную научную и организационную работу, и его деятельность была в советское время плохо совместима с беспартийностью. Неоднократно ему настоятельно предлагали вступить в партию. Как ему удавалось этого избежать? Он рассказывал, что всегда объяснял «начальству», что «считает себя недостойным». И в конце концов его перестали трогать. И даже, не будучи членом партии, стал академиком, что уж совсем казалось невозможным в те времена. Этим он был обязан замечательному ученому и порядочнейшему и чудесному человеку – академику Александру Львовичу Минцу, который около двадцати лет своей жизни провел в за-ключении, работая в «шарашках».
За всю свою жизнь отец ни разу не выехал за рубеж. И не потому, что его не выпускали. Наоборот, его настойчиво уговаривали ездить. Но это тоже, как и членство в партии, было для него неприемлемо: когда-то он, не зная, какие это накладывает обязательства, согласился. Но за это от него потребовали что-то, что, по его установкам, он делать не мог. И он тут же ехать отказался. И больше уже никогда не соглашался.
Но ему всегда казалось, что он сделал в жизни мало, не выполнил своего долга перед Богом и людьми. Жить в вере учила его любимая его бабушка, в вере жила его мать. В последние годы в его жизни и жизни всей нашей семьи появился замечательный священник, ставший его духовником и другом – о. Николай Ведерников. В 1986 году о. Николай крестил одновременно мою младшую дочь Анну и мою мать. О.Николай и его «матушка» Нина Аркадьевна стали близкими и необходимыми моим родителям и всем нам людьми. Они провожали в последний путь и отца и мою маму.)
1991 г. (за год до смерти)
Я знаю только то, что Бог есть, что я был много раз спасен Богом. Не по заслугам обласкан. Это знание подкреплено реальностью. И я чувствую себя в неоплатном долгу.
Из воспоминаний жены.
Сердце остановилось к вечеру в Страстную субботу.
Хоронили мы его 29-ого апреля, на Пасхальной неделе.
Отпевали в храме “Ивана Воина”.
Лицо его выражало удивительное спокойствие. Он ушел из мира, где ему жить было очень тяжело. Отец Николай замечательно провел панихиду, было много народу, но я ничего не видела, стоя около него в последний раз. Вынесли его из церкви с колокольным звоном. Потом - Донской монастырь, кремация. Итак, его с нами нет.
Мы прожили вместе 61 год, целую жизнь, и я осталась одна, а я так надеялась, что он проживет еще сколько-нибудь.
Проезд троллейбусами 1, 4, 33, 62 до остановки «Кинотеатр “Ударник”» (станции метро «Кропоткинская», «Октябрьская», «Полянка»).
Рекомендуем в будние дни ехать до станции «Кропоткинская», выход к Храму, далее 2 остановки троллейбусами 1 или 33
либо пешком через пешеходный мост через Москву-реку.
По Берсеневской набережной пройти Театр эстрады, войти во двор через арку и слева, пройдя подъезд № 1, найти наше крылечко.
вход справа от первого подъезда.
Почтовый адрес: Москва 119072, ул. Серафимовича,
Государственный краеведческий музей "Дом на Набережной",
телефон /факс: 8 (495) 959-49-36.
Дизайн: Зоркин Василий.
museumdom@yandex.ru">museumdom@yandex.ru